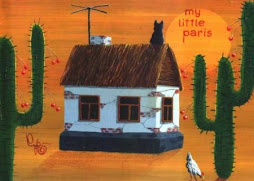41.
Не все куры в золоте… Золотушного мальчика выносит дед по утру надышать озон…
Золотым крепом убрано ложе дедка гробокопателем в могилу был положен…
А дальше все степенно и просто – подрастает мальчик: кулачища в сталь,
Не дал Бог ни огромного роста, ни на шею золотую медаль.
Школа закончена, время побриться – в золотой окалине окрестный асфальт.
На асфальте крупно взбитые лица – в «кровавой Мэри» хлопчика фарт.
Он кому-то сказал инако, чем тот ведал и знал до сих,
Вот и разодрана до пупа рубаха, оппонент в кровище… Мальчик – псих!
.
Ну не долечен, как знать, недоношен тяжкою ношей в общественный клич
Словно перчаткой боксерской заброшен – весь в конопушках, убийца, вампир…
Гены его распирают на части – несть в них озона, время сожгло
Радиозолями киевской масти тело и душу его…
Эй там, прохожий, чего ротозеешь, или тебе золотая судьба
Выпала… Нет, так её ты посеешь… В мальчике гены… К чему здесь мольба?
Богу не стоит сегодня молиться – из золотушных восстали кровей
Дети Чернобыля – им пригодится в этой эпохе одно лишь: Убей!
Бей за свое, за отсутствие счастье, бей за усопших чернобыльских дней.
Кто ликвидатор – не ищет участья. Кто порожден им – не станет добрей.
Выйдет девчонка синюшного цвета к этому парню и скажет: «Пошли!»
И побредут эти двое планетой, там, где для них только серые дни…
Детям Чернобыля вечная память… Им и рассказывать вовсе о чем?
Нет, расскажу: термояд между нами. Он-то виновен, как видно, во всём!
42.
Синий асфальт не умеет болеть ностальгией.
Он подрастает и падает сколами лет.
Вместе с бодрящей вчера еще всех аритмией
рваных на кадры – осколочных чувств – кинолент.
Синий асфальт, разорвавший зеленое лето,
мир многоцветный, разрезанный в Детстве стеклом.
Патина слов на санскрите вчерашнего цвета:
те же слова, – но иные и суть, и любовь.
Синий асфальт на коралловом рифе прощаний:
миг ожиданий того, что способно согреть –
алые губы на бархате свежих лобзаний.
Им не дано бесполезно и сиро говеть.
Всяк ортопед на уключинах стылой эпохи.
Всяк лоховед, всяк источник житейских забот.
Синий асфальт – это прошлого светлые крохи.
Выстуди их – и тогда зарыдает фагот...
43.
Магистрали рвут аорты старых уличных асфальтов,
и рождаются фиорды тучных билдингов под смальтой,
тощих билдингов форели отражаются в стекле,
словно в красках акварели серебристость Фаберже.
И пигмеи человечьи, свой утратив прежний вид,
устремляются в скворечье рукотворных пирамид.
А ещё, несясь в бетонных полукубах, полувешках,
заметают эскадронно след свой – в нечет да орешку…
А орёл да чет – не в моде, в недочете нынче те,
кто мечтает о природе, да в бетонной слободе.
Подле ангелы при дудках у житейских адских врат
на пристебах-прибаутках зазывают в зоосад!
В том засаде-зоосаде выдаются номерки
недомеркам при параде: «Проходите, чуваки!
Вы свои, и вам коленца здесь фиглярить до кончины…
Вам зачтется, как младенцам… жидкомозглые кретины!»
44.
Я привык выходить на асфальты с полусмальтой на полуподмостках,
и звучать баритонистым альтом не по голосу и не по росту…
…в какофонии сплина и тлена… Под извивами вешней земли
погибает трудяга Равенна в недозвучьях вселенской любви.
Мы на улицах нового века – очень трудно в нём жить и дышать
безвозмездно нелепою вехой и под ветром эпохи дрожать…
Посему, наплевав на эпоху, строим светлой души витражи,
испуская корпускулы-крохи в каждый отзвук вселенской глуши.
Здесь простая и добрая вечность в пересортицу прошлых дорог
непременно вплетет человечность, как велит человеческий Бог…
И тогда на асфальтах вселенной отразится восторженный май –
бесконечный, волшебный, нетленный по билетной цене на трамвай.
45.
Комочки Человечества, смешные пострелята –
судьбы – ее величества потешные ребята.
Икра в мальках играет снедью, смывает осень облака
и осыпает землю медью во ржавых кавернах стиха...
И я смешон, и ты нелеп, но оба мы вкушаем хлеб,
и воду пьём из родника, и мчит нас времени река.
Колотые, резаные, рваные раны, как шипы кафешантанные.
Неустанно ноют и болят. Знать бы от чего?.. Не говорят.
Кляуза-пауза, жизни пробой, стылая пауза, вялый фрэндбой.
Зло, особачено, осточертев, лает оплачено. правду призрев!..
46.
В это кафе приходит агонизировать осень
в старой, проеденной молью шали
в ветхом, благеньком теле,
в котором едва теплится душа
со своими прежними изысками,
сбежавшая отогреться после чужих похорон.
47.
Кто-то гнал, кто-то трахался, кто-то все это сплевывал,
Кто-то говорил свое слово, кто-то сопли дожевывал...
Кто-то все это трепетно постигал в первый раз –
эту грязь несусветную, этой жизни маразм...
В чем-то Зоны заведомо это маленький скол,
будто кем-то отмеченный как компьютерный Scrooll.
Хай-лайф лучше бы, девочки, пляшут там рок-н-ролл!
48.
Жизнь толкает на поступки, и не жди её уступки...
49.
Любить без галочки, до точки, любить до бублика души!
И чем темнее будут ночки, тем, блин, скорее свет туши!
Любить до "белочки", до шиза – с карниза – вниз башкой, пошел!
И снова вниз, опять с карниза – такая страшная любовь…
50.
Она – Сирена! Стоп, наитье! Она – Сирена, чёрт возьми!
Такое странное открытье на непроторенном пути.
Она готова спеть, и свежесть свою раздать по адресам.
Она собой питает нежность, в ней — зуд бежит по волосам.
Она – восходит к предыстокам всегдашней памяти моей.
Она – пытает биотоком, она – лишает якорей.
Она питает душу сном, с ней тело выброшу на слом.
51.
Любви людей, легко любящих латентных зарослей леса дивятся даже небеса...
(с) Авторская графика Ирины Диденкл "Двое"